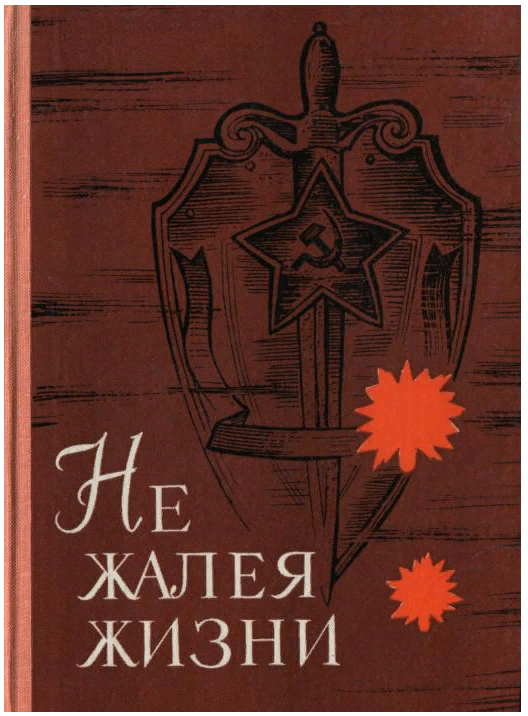ФАЛЬШИВЫЙ БРИЛЛИАНТ
 Над базаром стоял обычный гомон, в воздухе висел смешанный запах овощей, ранних фруктов, кипящего масла, конского пота и навоза. Было довольно жарко, но людей не смущала эта жара, и они с озабоченным видом сновали от воза к возу, чтобы прицениться к яблокам или луку, арбузам или иной зелени.
Над базаром стоял обычный гомон, в воздухе висел смешанный запах овощей, ранних фруктов, кипящего масла, конского пота и навоза. Было довольно жарко, но людей не смущала эта жара, и они с озабоченным видом сновали от воза к возу, чтобы прицениться к яблокам или луку, арбузам или иной зелени.Сажин, ловко лавируя в людской толчее, уверенно пробирался вперед, раздумывая о том, что и как докладывать о своей поездке в Джаркент. Выводов — четких и ясных — не было, и это беспокоило больше всего. «Четки… Вот они лежат в полевой сумке как вещественное доказательство очередной попытки нарушить советскую границу. Но только ли? Для чего они были нужны? У старообрядцев четки-лестовки грубы и невзрачны. А эти…»
— Да отстань ты, антихрист. Ну чего ты, дьявол, прицепился ко мне? — прервал размышления Сажина раздраженный женский голос.
— Пройдем, гражданка спекулянтка, в отделение, — послышался мужской голос.
Сажин протиснулся сквозь десяток базарных зевак и увидел, что молодой милиционер держит за локоть какую-то женщину в черном, по-старушечьи повязанном платке. Она, удерживая одной рукой ведро с лепешками домашней выпечки и задыхаясь от злости и страха, пыталась другой оторвать широкую мужскую пятерню.
— Да отстань же ты, дьявол, от меня.
Сажин недовольно сдвинул брови. «Усердье не по разуму… Конечно, в стране трудно с хлебом. Но не такие вот виноваты в этом. Может, эта бабенка от себя горсть муки оторвала, чтоб выручить копейку на что-то еще более нужное». Боковым зрением Сажин заметил, как рядом грязная рука змеей скользнула по чьим-то штанам. Сажин протиснулся к милиционеру и негромко, почти на ухо сказал ему:
— Тут карманник орудует, а вы с женщиной связались!
Милиционер зыркнул на Сажина, и тотчас выражение лица его сменилось. «Узнал, должно быть», — машинально отметил Сажин и, поведя взглядом, кивнул на тесную кучку людей.
Милиционер отпустил женщину, отчеканил: «Ясно, товарищ начальник!» — и бросился в сторону. Глядя ему вслед, Сажин почувствовал, как его схватили за рукав и буквально потащили. Настороженность тотчас сменилась усмешкой — «спасенная» им женщина тянула его в сторону от места, явно ей неприятного.
— Ой, спасибо тебе, родимый! Век христом помнить буду. Выручил ты меня от супостата. Дай тебе бог счастья, — тараторила женщина, оглядываясь не столько на Сажина, сколько в ту сторону, где милицейский свисток уже рассыпал переливчатую трель. Как всегда в таких случаях, хлынул в ту сторону народ. Раздался азартный крик «Держи вора!», лупоглазый парень по-разбойничьи засвистел в два пальца, испуганно запричитали старушки.
Наконец, женщина остановилась, отпустила руку Сажина. Поставив ведро на землю, она быстро заправила под платок выбившиеся волосы. Щеки ее тронул румянец, большие чистые карие глаза молодо блестели, а когда она повернулась в сторону базара, под темной кофтой богомолки выпукло обрисовалась высокая грудь.
— Казачка, что ли? — грубовато спросил Сажин.
— Муж был из казачьего сословия, а я нет.
— Был?..
— Его в девятнадцатом то ли анненковцы, то ли колчаки, сказывают, порубали, — голос женщины потускнел, и между бровями прорезалась четкая складка. На миг она опустила лицо. Но тут же подняла голову, и ее глаза скользнули по фигуре Сажина.
— Как же мне отблагодарить тебя, благодетеля моего?
— Да чего уж там.
Вдруг лицо женщины залила краска, и она, опустив глаза, сухо и гордо бросила:
— Не думай чего там охального. Я не шалапутная.
— Ну зачем ты так, — построжел Сажин. — Я к тебе как к человеку…
Женщина подняла глаза. Настороженность во взгляде опять уступила место женскому кокетству.
— А вообще-то ты женщина опасная.
— Чем же, товарищ начальник… милиции?
— Это тебя бог надоумил, что ли? — улыбнулся Сажин, успев заметить и лилейно-молочной свежести шею, и гайтан крестика. Обращал на себя внимание и подбор слов, которыми была пересыпана речь молодайки.
— А что, или в бога верить нельзя?
— Верить у нас никому не запрещается. Только не понимаю, какой от этого толк. И обидно, сколько еще женщины будут оставаться Матренами безгласными.
— А я не Матрена.
— Неужели?
— Настасья я. Агафонова по батюшке, а по мужу убиенному Самолетова.
— Ну, а я Сажин Петр. Правда, не начальник милиции… — Сажин улыбнулся. — Фамилия у тебя знатная.
— А что тут такого? Прадед, сказывают, у моего Мити паромщиком был.
— Вон, значит, что! Однако, заговорился я с тобой, Настасья, — глянул Сажин на часы.
— Да и я тоже. Возьми вот, — сунула она Сажину в руку пару лепешек. — Да бери, бери. Это от чистого сердца, как человеку.
— Так ведь я же, по-твоему, милиционер…
— А что, разве средь милиционеров людей нет? — с вызовом бросила Настасья. Это было так неожиданно, что Сажин не нашелся, что сказать, и молча смотрел на нее.
— Спасибо, — наконец проговорил он. — А где найти тебя? Ведь я твой должник.
— А ты в человека поверь — и найдешь, — опустила глаза, повернулась и пошла. Шагов через пять она оглянулась. И то ли черный платок так оттенил лицо ее, то ли еще отчего, но улыбка ее вроде была печальна.
— Прощай, служивый!
— До свидания, Настасья!
Лицо молодайки дрогнуло, она слегка взмахнула рукой, и людская круговерть скрыла ее из глаз…
Четки
Зайцев долго молча рассматривал привезенные Сажиным с границы четки. Выглядели они не совсем обычно. На прочный шелковый шнурок были нанизаны круглые шарики вперемежку с шаровидными коричневыми многогранниками. К одному такому многограннику присоединялся черный цилиндрик, похожий на желудь, а напротив него были нанизаны три желтых диска, разделенные пятерками шариков.
— Занятно, занятно, — пробормотал Зайцев, осторожно трогая каждый диск толстым пальцем. Наконец, он вскинул голову. — Ну-ка, Петр Иванович, расскажи подробнее, как попала к тебе эта вещица.
Сажин кашлянул в кулак, привычно тронул большим пальцем «английские» усики, заметно отросшие за прошедшую неделю, и стал докладывать.
В Джаркентском ОГПУ Сажина встретили дружелюбно и тут же включили в дело: ожидали прорыв банды через границу, и чекисты собирали в помощь пограничникам коммунистический отряд. Сажину не нужно было долго объяснять, что делать. Он сразу отправился на конюшню и попросил оседлать коня. Выехав из райотдела, Сажин проскакал широкими улицами и на выезде из города встретил участкового милиции Третьяка.
— Никак в гости к нам? — поинтересовался тот.
— Да нет, к нам гостей ждут, вот я и тороплюсь на заставу. А вы?
Третьяк покосился на Сажина, подумал, чесанул за ухом.
— Черт. Вот не ко времени. Ну, ладно, езжайте потихоньку. Я догоню вас. Мне надо тут заскочить в одно место, — и он бросил коня в намет.
Через полчаса Третьяк нагнал Сажина. Всю дорогу ехали молча. Третьяк настороженно крутил головой и часто похлопывал коня по шее. Раза два он останавливался, зачем-то переседлал своего Серко и, не глядя на Сажина, словно оправдываясь, сказал, что потник сбивается, потому что проклятая животина хитрит и не дает затягивать подпругу.
До поселка, в котором размещалась застава, добрались засветло без происшествий.
— Джаркентцев подъехало четверо. Еще люди будут? — спросил Сажина Кравцов — начальник погранзаставы.
— Говорили, что должны еще пятеро быть, — ответил тот.
— Ну, ладно, сейчас отдыхайте, когда все соберутся, поставлю задачу. Мои уже знают. Только людей у нас, сами знаете, не густо. Вот и использую ваш резерв.
— Сбегаю к свояченице на полчасика, перекушу, может, — не глядя на Сажина и Кравцова, бросил Третьяк и быстро зашагал от коновязи.
Сажин знал, что на границе неспокойно. То там, то сям лезли контрабандисты. Чуть не каждые сутки на границе происходили стычки. Еще в марте крупная банда бывшего царского офицера Кивлева шестеро суток осаждала в селе Кзыл-Агач отделение пограничников, следовавших в Лепсинск. На лепсинском направлении из Синьцзяна не раз пытались прорываться банды Квитко, Нагорного и Арвейцикова, на Зайсанском участке был свой опасный «клиент» — Толстоухов. Это крупные шайки, до сотни сабель. А о мелких и говорить не приходится. Но в героях поста Кашкасу, хотя и погибших, но не пустивших банду в долины Киргизии, все пограничники видели вдохновляющий пример мужества и презрения к смерти.
Тактика белобандитов была известна: под покровом ночи по-змеиному переползти границу, скрытно пробраться в район, где нет воинских сил, и там жалить направо и налево, выдавая себя за местных повстанцев против Советской власти.
Увидев у Сажина коробку маузера, начальник погранзаставы спросил:
— Служебный?
— Награда, — коротко ответил Сажин. Да и стоило ли распространяться о том, что довелось воевать в 1919 году против колчаковцев, или о том, как ему, молодому сотруднику ГубЧК, в Татарии приходилось гоняться за кулацко-эсеровскими бандами, брать разоблаченных белогвардейских эмиссаров и диверсантов, нередко со стрельбой, а то и разрывами бомб.
— Хорошо, — с уважением отозвался начальник и, улыбнувшись, отказал в винтовке. — Патроны к маузеру дам. Этого добра хватит, а винтовку не проси, — и насыпал Сажину в пригоршню десятка три маслянисто-желтых патронов.
— Он у тебя пристрелян ли? — с нарочитым сомнением поддразнил Кравцов.
— Огнем крещен, — с невольной гордостью отозвался Сажин.
— Вот видишь! Всех бандитов перестреляешь, а на меня обижаться будут, — хохотнул начальник, потер переносицу и добавил: — Дам я тебе сотню патронов сейчас, так ты в другой раз к нам не заглянешь.
— Ладно, ладно, уговорил! — усмехнулся Сажин, вытаскивая из сумки пустые обоймы, чтобы набить их патронами.
— Ну и лады. Пойдешь в секрет с отделкомом Барановым, — показал начальник погранзаставы на подходящего смуглого, невысокого, но ладного пограничника. — Учти, Сажин, — впервые назвал начальник фамилию гостя. — Ставлю вас двоих на сомнительном направлении. Есть одна лощинка. Для конного рывка она очень даже подходит. Так что смотрите. За вами никого не будет…
Все было ничего. Но комары… Как назло, порывы ветра были редки и курить нельзя. Перед рассветом, когда нервы были как туго натянутые струны, откуда-то слева раздалось несколько выстрелов. Сажин сразу же забыл про комаров и, повернув голову, посмотрел в сторону отделкома. Тот знаком предупредил: «Тихо!» Опять потянулось ожидание, острое, как лезвие клинка.
Часов в пять утра Баранов, чуть шурша осокой, подполз и пригласил Сажина следовать туда, где на рассвете слышалась стрельба.
Оказалось, что стреляли с засады Третьяка. Ночью послышался шорох камыша. Неопытный первогодок вскинулся и окликнул по-уставному: «Стой! Кто идет?»
В ответ грохнул выстрел, потом еще. Третьяк крикнул «Ложись!», и тогда уже дальше грохнул третий выстрел, затем все стихло.
Ждать больше не было смысла, и все четверо стали искать следы. Вот тогда метрах в тридцати от засады Третьяка отделком Баранов и нашел четки. Выявить след не удалось: нарушитель был в какой-то мягкой обуви…
— А не попали четки в это место раньше? — усомнился Зайцев, внимательно выслушав доклад Сажина.
— Нет, Константин Артемьевич, — решительно возразил Сажин. — В таком случае трава проросла бы сквозь них, а тут четки лишь придавили ее.
— Может, случайность…
— Нет, не случайность. Зачем же тогда стрельба? — не согласился Сажин.
В чекистской работе всякое предположение должно опираться на факты. Это Петр Иванович знал хорошо, поэтому смутные свои подозрения о том, что где-то он уже видел такие четки, пока не выложил. Да и что может значить, если даже и видел? Но вспомнить необходимо. Что четки упали — это, конечно, случайность, но что их владелец обстрелял засаду, кстати, для ночного времени достаточно метко — пуля впилась в кочку в двух-трех вершках от красноармейца, — уже не случайность. Значит, ему было не резон попадать в руки пограничников, значит, цели лазутчика были далеко не «святые».
С четок мысль перескочила на узнанное от Константина Артемьевича, что в Никольском соборе объявился новый епископ. Сразу же припомнились сигналы об усилении борьбы в местном соборе против церковных обновленцев, о том, что в церкви больше стало верующих за счет осевших в городе монахов и монашенок, а также понаехавших из разных мест России в связи с закрытием ряда церквей архиереев, дьяконов, бесприходных попов и людей неизвестных званий.
Потрогав четки еще раз, прежде чем убрать их в сейф, Петр Иванович усмехнулся: «Ну вот и потянуло меня на дела церковные. Вишь, как ловко получается: епископ, обновленцы, беглые монахи, бесприходные попы — словно по четкам перебираю».
Отхлебнув из кружки настоявшегося чая, Петр Иванович вздохнул, вынул чистую папку и крупно написал сверху «Четки». Пока что в папке было всего два документа: протокол осмотра места обнаружения четок да рапорт самого Сажина об обстоятельствах, сопутствующих их появлению на границе.
Новый епископ
Перед домашним киотом мерцали три свечи, освещая иконы. Колеблющийся свет неровными бликами отражался на образах, и лики на иконах го проступали, то исчезали в темноте. Но сидевший в деревянном кресле не смотрел на киот. Опустив голову на ладони рук, поставленных на колени, он был недвижим и, казалось, дремал.
Жалобно пискнули петли, дверь отворилась, и в келью, пригнувшись вошел мужчина в монашеском одеянии. Он привычно перекрестился, разгладил бороду с сильной проседью и окликнул сидящего:
— Не спишь ли?
— Нет, отец мой, просто задумался.
— Да, суровы испытания господни за прегрешенья наши. Но уж больно ты резко в своих проповедях на обновленцев ополчился. Мягче, Герман, надо. Мягче.
— Время, отец мой, жесткое, и мягче нельзя. Вспомни историю церкви нашей на Руси. Как только в религии послабление, так светские власти усиливали гонения. Так было при Алексее Михайловиче, Петре Первом, Анне Иоанновне…
— Нет, Герман, при Петре Великом не раскол породил усиление светской власти, а, наоборот, ее возвышение привело к углублению разногласий среди князей церкви, а потом и к расколу.
— Ах, какое это имеет значение. Ведь гонения-то пали на священнослужителей! — воскликнул Герман.
— Имеет. Не забывай, что ты не рядовой священник, ты епископ, князь церкви, и от тебя зависит многое в борьбе за сохранение религии в епархии. Гибче надо быть. Вспомни, как Иван Калита собирал Московское государство: где лаской, где посулом, где словом нелицеприятным, а где и поклоном низким перед басурманами.
— Так то светский князь.
— Дело в тактике, в средствах, а не в том, что Иван Калита был князем светским, а не духовным. Заметил ли ты, что в соборе среди мирян было много клириков.
— Заметил.
— Так вот, не все они согласны с жестокой линией патриарха Московского и Всея Руси Тихона Белавина, хотя и в обновленчество не ударились. А ведь могут отколоться… Или возьми причт нашего храма. Есть такие, как отец Порфирий. Они глубоко, истинно веруют, однако к обновленцам, а кажется и к властям предержащим, лояльны.
Наступила тишина. Каждый обдумывал сказанное другим. Архимандрит Феоген был духовником Германа, да и по жизненному опыту чуть не вдвое старше. Герман же, хотя и был епископом, имел от роду всего 45 лет. Не один год они служат богу вместе, давно у Германа нет от Феогена секретов, а такие беседы помогают понять, как укреплять в народе пошатнувшуюся веру в бога.
Феоген снял тяжелый наперсный крест, положил его на киот под образами, сел в другое кресло, расправил бороду и снова заговорил.
— Сергий, став местоблюстителем патриаршего престола, сразу же повел дело к объединению церкви и, чтобы выбить почву из-под ног обновленцев, заявил о лояльности церкви по отношению к новой власти. Хотя один свят дух знает, что он в тот момент думал. Но нужно было объединить верующих, преодолеть наметившийся раскол. Разве не так?
— Так, — тихо отозвался Герман.
— Только в соединении сил наших можем мы удержать паству в лоне церкви православной и как-то влиять на положение на Руси. Да и уповаю на всевышнего, — Феоген набожно перекрестился, покосясь на киот. — Не будут англичане, французы и германцы терпеть большевиков. И белое воинство, ныне временно находящееся в далеких палестинах, не оставляет надежд на возвращение на землю предков. И, верю, придут они не как блудные сыны со смирением, а как воины во славу Христову с мечом, разящим скверну безбожия.
— Все в руце божьей!
— Эх, Герман! Миряне, даже веруя во второе пришествие Христа, все же говорят: «Бог-то бог, да сам не будь плох!» Так-то вот!
— С именем божьим…
— Не поминай всуе имя всевышнего. Настало время действия, — проворчал Феоген. — Имя божие восславляй, когда дело сотворишь.
— Я понимаю, что помыслы боговы людьми претворяются, но где найдешь надежных?
— Чтобы крепить церковь и веру, людей предостаточно. Поговорить со здешними пастырями… — закончить Феогену помешал стук в дверь, за которым в келью вошел один из священнослужителей церкви. Перекрестясь и пробормотав нечто молитвенное, он обратился к Герману:
— Ваше преосвященство! Окажите божескую милость, разделите с нами у отца благочинного трапезу нашу скромную. Да и услышать алкаем о жизни в других епархиях. Ибо известия к нам достигают поздно.
Говорящий внимательно посмотрел на Германа, и во взгляде его пробивалась властность, которую не могло сгладить благодушное выражение лица.
— Как, отче? — вскинул Герман взгляд на Феогена. А тот словно невпопад негромко, но отчетливо проговорил:
— Поисповедуемся сообща.
Герман задумался и, поднимаясь с кресла, произнес:
— Ну что ж, ведите.
«Дохлое» дело
За множеством дел мысль о четках не покидала Сажина. Она то всплывала в памяти, то погружалась в тайники. Вот и сегодня, после сообщения Зайцева о разоблачении в 1929 и 1930 годах антисоветских церковных организаций в Вятке, Владивостоке и ряде других мест, Петр Иванович снова вспомнил о четках.
Бывает так. В пасмурный серый день внезапно луч солнца прорвется между туч, высветит на сером фоне какой-то предмет — предстанет тот четко, рельефно, словно высеченный и ярко раскрашенный… Образ попа вырисовывался перед ним так реально, что Сажин чуть ли не поперхнулся и даже кружку отставил. Точно. Именно такие четки видел Петр Иванович в левой руке мужчины в рясе на одной из железнодорожных станций.
Русая борода с легкой рыжиной у подбородка не вязалась с молодым блеском серых глаз под ровными дугами черных бровей. По прежней портновской привычке Петр Иванович тогда мысленно прощупал фигуру попа. Возраст где-то 30—35 лет, рост выше среднего, фигура даже под бесформенным балахоном рясы не казалась грузной или толстой. Довольно плечист. Шаг широкий, но походка не прыгающая, значит длинноног. Здоровый цвет кожи лица свидетельствовал о крепком здоровье. Вряд ли поп этот усердствовал в «сокрушении» своей плоти. Да и густая вьющаяся грива, что упрямо вылезала из-под черной скуфьи, не вызывала мыслей об изнурительных постах.
Бросались в глаза четки, которые тот держал в левой руке. И мозг автоматически отметил три желтых диска, разделенных черными и черно-коричневыми шариками. Рука с четками вспомнилась с фотографической четкостью. Да, три диска… Петр Иванович даже головой помотал: точно, желтый, три коричневых и два черных, потом желтый и опять та же комбинация черных и коричневых.
А когда поп перехватил одну косточку, из узкой ладони выскользнул и цилиндрик — желудь. Он, Сажин, тогда перебросил чайник из левой руки в правую. Точно. Он шел за кипятком, а было это в Бузулуке. Еще, помнится, в Актюбинске ему показалось, что этого же попа видел в окне вагона.
«Предположим, поп ехал в поезде, но как он попал в Джаркент? — размышлял Петр Иванович, машинально барабаня пальцами по столу. — Или беглый или… На западе границу перейти практически невозможно, на Дальний Восток слишком далеко, в Средней Азии — мусульмане. Значит — Казахстан. Охрана границы здесь редкая, не хватает людей. Потому и лазейку найти не трудно.
Но если четки те самые, то выходит, что поп с поезда пробрался в Джаркент и улизнул за кордон. Правда, стрельба не вязалась с нежными тонкими пальцами и подчеркнуто доброжелательным взглядом того попа, но ведь на то и омут, чтоб чертей укрывать…»
Начальник отдела Зайцев внимательно выслушал соображения Сажина насчет четок и священнослужителя с поезда. Встал, прошелся по кабинету, сел, положил тяжелые руки на стол.
— Что ж. Примем за первую версию твое соображение о том, что поп бежал за границу. Хотя вполне допустимо, что это или один из руководителей контрреволюционной церковной организации или, может быть, связник за кордон. Как тебе известно, центр ориентировал нас о разоблачении таких организаций в Вятке и Самаре. Не исключено, что твой «крестник» может быть из этих мест. Однако нельзя исключать и здешних.
— Но четки…
— Четки ерунда. Это не нос, который не переставишь. А четки… сегодня у одного, завтра у другого, а то и вообще в первую подворотню брошены.
С этим Сажин должен был согласиться.
Теперь, прежде чем обращаться в Вятку или в Самару, надо попробовать установить личность этого священника…
Сажин еще с час обсуждал с Константином Артемьевичем возможные пути установления личности попа. А вернувшись к себе, заговорил с кстати оказавшимся под рукой помощником Семкиным.
— Саня! — ласково сказал Петр Иванович, потому что поручение было довольно щекотливое. — Ты вроде бы крещен?
Семкин внимательно посмотрел на Сажина и сухо подтвердил:
— Крещен. Только это сделали без моего согласия.
— А еще говорят, что ты в церкви побывать мечтаешь, — продолжал Сажин бодро-весело, вроде бы и не глядя на Семкина, но замечая, как у того заалели сначала уши, потом щеки, и наконец, багрянец залил шею и все лицо.
— Клевета это, Петр Иванович! — рассердился Семкин. — И в церкви я не был, и в бога не верю.
— Это ничего, — спокойно продолжал Сажин, пряча улыбку. — Сходишь в церковь, на иконы посмотришь.
Открыв рот, Семкин ошарашенно поморгал светлыми ресницами, потом вскочил.
— Да я сейчас…
— Сейчас ты сядешь, Саня, и выслушаешь меня, — в том же тоне продолжал Сажин и чуть жестче добавил: — А понадобится — и молитвы выучишь, и креститься будешь.
— Как креститься?! — опешил Семкин.
— Как все православные — правой рукой от лба до пупа и от правого плеча к левому.
— Да что же это такое? — с отчаянием прошептал Семкин.
Сажин согнал улыбку и суховато-сурово сказал:
— Ты, товарищ Семкин, три дня отсутствовал в отделе… Не перебивай. Так вот… — и вынув четки из сейфа, рассказал все, как было.
— Кто их владелец, мы не знаем. Вот и надо попытаться найти его, тогда, может быть, станет ясна цель перехода госграницы.
— Да, но я же его не видел…
— На вот, почитай. По-моему, я ничего не упустил.
— Однако и дохлое же дело, — только и мог вымолвить Семкин.
— Какое уж есть.
Сажин понимал, что в словах Семкина резон есть. И все же…
Занятный иеромонах
На розыски попутчиков Сажин потратил не один день, но утешительного было мало. Кто не видел попа, кто просто не обратил внимания. Не рассчитывал Петр Иванович узнать что-либо и у Кузьмы — виноградаря из Чилика.
Но ехал Кузьма с матерью. Вот она-то и рассказала Петру Ивановичу, что был это не простой поп, а иеромонах, коему дозволено править службу церковную, и ехал он в наши края из Нижнего Новгорода.
— И откуда, мать, тебе это известно? — недоуменно воззрился Кузьма на старуху.
— От людей слышала, — спокойно отозвалась старушка. — А еще заезжал он в Сызрань, Самару, Бугуруслан. Искал кого-то, уж не упомню, архимандрита или архиерея.
— И чего попу не сидится на месте? Кажется, у кого жизнь может быть спокойнее? Ан и попы теперь туда-сюда мотаются. А зачем? — вроде безобидно проговорил Сажин.
— И в самом деле, чего мечутся? — с недоумением отозвался Кузьма.
— А он, сыночек, исповедника своего ищет. Как он его называл-то, дай бог памяти… Вроде как Захарий. А может Макарий?
— Да ты-то, мать, откуда знаешь? Выспрашивала, что ли?
— Зачем выспрашивала. Я, чай, не глухая, — с легкой обидой сказала старушка. — Это он, когда я за кипяточком ходила, женщине одной рассказывал. Вот я и слышала. А она его назвала один раз Василием, так он вроде бы даже осердился на нее. Ну, а женщина ему и отвечает: «Да все никак не привыкну, что ты теперь Афиноген».
— Они, что же, ехали вместе? — поинтересовался Сажин.
— Да нет. Она в Оренбурге села. Тоже кого-то ищет, как я поняла. А у кубовой, похоже, случайно встренулись. Он так даже чуть руками не всплеснул: Муратова! Аннушка, мол. У кубовой как раз чтой-то народу не было, они и заговорили. Тут он и сказал, что в наш город едет, потому как, мол, ему сказали, что энтот Захарий, а может, Макарий, здесь в обязательности находится.
— А этот Василий, или Афиноген, из самого Нижнего?
— Да нет, он этой балаболке сам сказал, что в Питере был послушником, а потом его в иеромонахи произвели, потому как он обучался службу править и в Новгороде Нижнем при обители служил. А потом и подался…
— Вон как. Поп, значит. А что же он четки-то носит, если поп?
— Вот-вот, про четки его и эта балаболка спрашивала. Так он ответил, что четки как бы вроде подарок, не поняла только — ему или отцу его духовному и исповеднику. «Видно, не один ты у него духовный сын», — сказала та Анна. И объяснила, что уже троих или четверых видела с таким подарком.
— И где же она видела такие четки? — не удержался Сажин.
— А я, милок, больше уже не слышала. Они пошли к поезду, да и мне тоже надо было поспешать…
В дело легла еще одна бумага — рапорт Сажина с записью рассказа старушки из Чилика.
— А я тут все насчет четок думаю, — поделился Семкин. — Может, дадите еще разок полюбоваться?
— Пожалуйста, любуйся. А в церковь ходил?
— Ходил, ходил. И вашего архимонаха между прочим видел. Рыжеватая бородища, львиная грива, рост гвардейский — одно слово архимонах. А еще новый епископ в церкви появился.
— Видел?
— Видел. Ничего мужчина, представительный. Только нервный вроде.
— С чего это ты так думаешь?
— Да уж больно неровно службу вел. То тянет, то вдруг зачастит, аж кадилом махать не поспевает, а за ним и дьякон слова начинает глотать, и вместо благолепия козлетонство получается, словно его в одном месте слегка крапивой стреканули.
Сажин невольно улыбнулся, а Семкин все так же перебирал шарики четок, внимательно осматривая каждый, и невозмутимо рассказывал, что исчезновения священнослужителей не отмечено, а вот непричетного священства в церковь на литургию собирается порядочно, что штат церкви полон, но епископ и благочинный ходатайствовали в связи с закрытием в городе других церквей об увеличении числа исповедников.
Неожиданно Семкин замолк, положил четки перед собой на стол и пристально уставился на цилиндрик-желудь.
— А открыть не пробовали? — неожиданно спросил он у Петра Ивановича и ухватил цилиндрик за оба конца — так что пальцы побелели. Цилиндрик не поддавался.
Семкин нахмурил брови, несколько мгновений не шевелился, потом еще сильней ухватился за концы и попробовал повернуть верхнюю чашечку в одну сторону, потом в другую.
— Есть! — радостно воскликнул он и через секунду показал Сажину разъятый на две части цилиндрик. Внутри лежала туго свернутая бумажка.
— Как? — с изумлением глядя на Сашины руки, выдохнул Сажин, который и сам проверял четки.
— Левая резьба! — коротко пояснил Семкин, извлек из пенальчика катышок и стал осторожно расправлять его. Наконец, разглаженная бумажка легла на стол.
«В святые таинства и бога единого веруем. Да рассыпется темный и ангел воссияет», — прочитал с нетерпением Семкин. Дальше шел бессмысленный набор букв: пбиамоиитвеошлорыишсб ьоееоракмлкогодянтндо ктдсщнаыжмянкктраевеи сегоанмретыиаивтговмь.
— Что за мура! —
воскликнул Семкин, а Сажин подковырнул:
— Действительно, дохлое дело!
— А ведь тот архимонах, если, конечно, тот, в церкви с четками был, — вдруг с недоумением сказал Семкин. — Выходит, не его?
— Не архимонах, Саша, а иеромонах. Значит, это монах в сане священника. А четки, видимо, не его. А может… запасные. Словом, как бы не пришлось нам и в самом деле священное писание читать да молитвы заучивать.
— М-м-да, — без особого энтузиазма промямлил Семкин.
Зайцев, увидев листок с зашифрованным текстом, попросил объяснить, что это и откуда взялось. Сажин вздохнул и рассказал.
— Так кто, говоришь, этот попик?
— Иеромонах, Константин Артемьевич!
— Занятный иеромонах. Ну, что ж. Отдай эту записку Савельеву. Пусть поколдует. И скажи от моего имени, что нужно ускорить.
Пригладив тяжелой ладонью корочку папки, Зайцев хмуро посмотрел на Сажина и упрекнул, что записку не сразу обнаружили. Ведь в таких делах время дороже денег.
Сажин виновато опустил глаза.
— Я пробовал открутить, но, видно, от росы фигурки набухли, а тут четки полежали, подсохли. Ну и… удалось.
Тайная вечеря
После первой трапезы у благочинного и служб с несколькими ночными бдениями, когда мимолетными репликами новый епископ и причт прощупывали друг друга, прошло не так много времени. Герман как будто поверил, что настало время для более откровенного разговора, но не хотел брать инициативу на себя. И случай подвернулся.
Днем в перерывах во время богослужения в честь апостолов Петра и Павла священник Александр подходил в храме то к одному, то к другому священнослужителю и что-то говорил, а собеседник коротко ответствовал. При этом один кротко опускал голову, другой летучим взглядом впивался на мгновенье в бесстрастные глаза батюшки, а иной опасливо косился по сторонам.
Собрались у отца Александра. Подходили в сумерках по одному. Когда же все собрались и была прочитана благодарственная молитва, отец Александр пригласил всех к столу, который с помощью Настасьи проворно накрыли монашенки Прасковья и Евдокия.
— Тайная вечеря в сборе! — гнусаво хохотнул благочинный, расправляя бороду.
Герман вздрогнул, быстро оглянул застолье и, зябко поведя плечами, явно с облегченьем вздохнул.
— На тайной вечере кроме спасителя было тринадцать апостолов, — сердито выговорил отец Александр Парамонову. — Нас же только девять.
После двух рюмок кагора беседа за столом еле теплилась. Архимандрит Феоген раза два взглянул на епископа Германа, который, казалось, чего-то ждал, на хозяина дома Александра Сокольского, явно нервничающего, на вздыхающего благочинного Парамонова. Наконец, Феоген не выдержал и прямо обратился к Сокольскому:
— А ты бы, батюшка, накапал нам слезы иерусалимской, а то в светлый праздник на душе тускло, как в успенье али в день, — он замялся, памятуя, как все отреагировали при напоминании о тайной вечере, — в день памяти присноблаженного Иоанна Крестителя.
— И то… — поддержал Парамонов.
По знаку отца Александра Прасковья и Евдокия бегом принесли из погреба несколько бутылок с водкой. Бутылки сразу же запотели, и взоры отцов святых одобрительно посветлели: отец Александр знает, как подать!
После рюмки холодненькой водки и довольного кряканья дружно зазвякали вилки и ложки, взоры присутствующих заметно повеселели, и тут незаметно заговорил его преосвященство. Говорил Герман о том, что всех присутствующих прямо касалось, — о закрытии храмов, унижении сана священнослужительского, о падении веры.
— Ваше преосвященство, — почтительным голосом, но твердо перебил Сокольский, — все это нам ведомо. И душа у нас болит, видя, как пустеют храмы, скуднеют приношения, как хиреет вера. Что делать нам?
Во время вопросительной тирады отца Александра за столом стало совсем тихо. Герман, опустив глаза, молча слушал. Когда же хозяин умолк, епископ посмотрел сначала на Феогена — своего духовника и советника и, лишь уловив движение его бровей, решился заговорить.
На этот раз епископа не перебивали, и он говорил все тверже и уверенней, как укреплять мирян в вере.
— Готовить надо верующих постоять за честь церкви православной. Не может такого быть, чтоб запустели храмы божьи, а вера уплыла к японцам, среди коих слово учения Христова, как ведомо мне от архиепископа Симона Пекинского, в большом почете ныне.
Сидящие переглянулись, а Герман продолжал:
— И начинать надо с обновленства. Это отступничество грозит вылиться в ересь и раскол.
Герман оседлал любимого конька, но Феоген из-под густых бровей внимательно наблюдал за сотрапезниками и, видя, что взоры их начали мутнеть от выпитого и длинного монолога епископа, значительно прокашлялся. Герман посмотрел на него и заключил:
— Встанем, братие, ангельской дружиной. И помните, что сказано в священном писании: «Сначала было слово!» Слово — наше оружие. В проповеди и исповеди. Аминь!
— Аминь! — нестройным хором ответствовали собравшиеся, с облегченьем вздыхая: теперь можно было потешить плоть — закусь была аппетитной.
После четвертой рюмки дьякон Соловейкин негромко запел:
Не осенний мелкий дождичек…
Несколько голосов подхватили припев:
Полно, брат, молодец,
Ты ведь не девица,
Пей, тоска пройдет…
Но вернувшийся с другой половины отец Александр шикнул:
— Если вечеря, так не к чему мирские песни петь.
Не ходил бы поп по базару
Сажин сидел у себя. Тощенькая папка и четки, лежавшие поверх нее, было в этот час единственным, что занимало мысли Петра Ивановича. Записки и докладные содержали пока немного данных, но ставили все новые вопросы. Вот Петр Иванович и ломал голову, как изменить соотношение: сократить число вопросов и увеличить — ответов.
Звякнул звонок телефона.
— Сейчас же зайдите ко мне! — распорядился Зайцев. В его резком тоне чувствовалось плохо скрытое раздражение. «Что стряслось?» — недоуменно подумал Сажин. А когда зашел к Зайцеву, всегда корректно вежливому, то вообще поразился. Вздыбившись по-медвежьи над столом, Константин Артемьевич сквозь зубы процедил:
— Вот уж не ждал, что ваш Семкин в налетчика превратится. Сейчас же отправляйтесь на базар в милицию, разберитесь и через час доложите мне.
— А что произошло? — спросил Сажин.
— У вашего чернеца на рынке украли четки и бумажник. Четки, как довольно сообщил Семкин, уже у него, а бумажник ищут. Вот я и думаю…
— На такую авантюру Семкин не пойдет, — твердо сказал Сажин. — Он комсомолец. И я ему верю.
— Поймите же, что бы ни случилось, это насторожит чернеца. — Константин Артемьевич махнул рукой. — Разберитесь! Но если это проделки вашего помощника…
— Слушаюсь! — отчеканил Сажин и по-уставному сделал поворот кругом. Выразив таким способом обиду, он отправился на рынок. Данных для выводов, по сути, еще не было, и Сажин решил до милиции об этой истории не думать. Сокращая путь, пошел между лабазами и, вывернув из-за угла, вдруг увидел сослуживца, чекиста Просенкова, сидевшего на корточках. Глянув через его плечо, Петр Иванович с изумлением увидел, что Просенков щекотит соломинкой маленькую дергающуюся ступню.
— Пусти! — доносился из-под лабаза не то стонущий, не то смеющийся голос. — А не то вот как вылезу, так как дам!
— Илья, что происходит?
Посмотрев на Петра Ивановича, Просенков с улыбкой ответил:
— Понимаешь, этот юный Робин Гуд нашел бумажник нашего знакомого и требует за него выкуп. А сам меня не отпускает…
— Не верьте вы ему, дяденька! Как же я его не отпускаю, если я сам от него вырваться не могу. Хи-хи-хи! Да скажите вы ему, чтобы перестал щекотать. Хи-хи-хи!
— Илья, перестань. Защекотишь мальчишку. А ты давай вылезай. Не бойсь, не скушаем.
На этот раз мальчишка послушался. Из-под лабаза показались лохмотья штанов, потом такие же невообразимые лохмотья не то рубахи, не то кофты, отросшие, слипшиеся от грязи непонятного цвета волосы. Мальчишка был худ и грязен, но глаза его еще не утратили блеска.
— У, дылда! — пытался он наброситься на Илью, но тот лишь положил ладонь на плечо и примирительно сказал:
— Ладно. Давай не сердись, а то Петр Иванович не покормит нас.
— Ну ладно, подождите, я сейчас чего-нибудь соображу.
— И меня не забудь! — кинул вдогонку Илья. — Этот бесенок так вымотал меня, что аж зубы с голодухи защелкали.
Сажин засмеялся и пошел к торговым рядам, высматривая что-нибудь съестное.
— Дайте, пожалуйста, пару лепешек, парнишка тут оголодал.
— Здравствуйте, Петр! — негромко и вроде нерешительно приветствовала его женщина.
Сажин присмотрелся. Это была Настасья. Только вид у нее был какой-то подавленный.
— Здравствуй, Настя! — поздоровался Сажин и смущенно добавил:
— Мальца вот подкормить надо.
— Доброй души ты человек.
— Какой есть. Что-то ты нынче скучная? Ай случилось что?
— Такая иногда тоска берет. Уехать из этого города, да куда податься? А тут сынок заболел.
— Врачу-то показывала?
— Все мы под богом ходим, — уклонилась женщина от ответа.
— А я как-то около церкви тебя видел. Как там отцы святые поживают?
— Святые? В гробу бы их святость видеть! — зло бросила Настасья. Сажин внимательно посмотрел на женщину.
— Спасибо, Настя! Пойду, а то пацан совсем заголодал, еще и удерет с нетерпячки.
— Добрый ты. Меня пожалел. Мальчонку вон тоже. Только слишком добрый. Злого да черного не видишь.
— Вот бы и просветила, — улыбнулся Сажин.
Глаза женщины сверкнули, на губах скользнула усмешка:
— Может и просвещу.
Через минуту беспризорный жадно уплетал лепешку, а Просенков больше для вида щелкал зубами, щедро нахваливал огурцы, картошку и лепешку и незаметно подвигал мальчонке то одно, то другое.
— Тебя звать-то хоть как?
— От рождения Федором, а среди этих — «профессором» кличут.
Критически оглядев мальчонку, Сажин покачал головой.
— Шел бы ты, парень, в детдом. Сытый будешь, ну и грамоте да ремеслу обучат. А так с голоду пропадешь или замерзнешь зимой.
— Не пропаду! — самоуверенно отозвался Федька. — А грамоте я ученый. Да толку-то… — Федька длинно сплюнул. — И не до того мне сейчас. Ну, спасибочки за шамовку!
Федька прищурил глаза, но не успел он шевельнуться, как Просенков положил ему руку на плечо:
— Федя! Как некультурно! Только познакомились, а ты утекать. С кем же я за жизнь толковать буду?
Петр Иванович внимательно посмотрел Просенкову в глаза. Тот виновато отвел голову. Сажин понимающе кивнул и улыбнулся.
— Ну, ладно… До свиданья, Федя! Я пойду, а вы беседуйте сколько хотите. Только…
Просенков молча достал из кармана потертый бумажник. Петр Иванович быстра раскрыл его, и первое, что бросилось в глаза, была фотография иеромонаха.
— Точно этот! — коротко ответил Сажин на вопросительный взгляд Просенкова и отправился в милицию.
Но там его опередил иеромонах. Воровато озираясь и пригибаясь, он бочком первый прошмыгнул в дверь, и Сажин решил подождать. Наконец чернец, так же воровато озираясь, выскользнул из милиции и едва не бегом пустился наутек.
— Чем это вы здесь напугали попика, что он отсюда со всех ног улепетывал? — спросил Сажин у Семкина.
— Тут, видишь, какая петрушка. Обокрали его, почитай на моих глазах, беспризорники. Милиционер мальчонку с четками успел схватить, а вот бумажник уплыл. Архимонаху же очень не хочется, чтобы в церкви о покраже знали. Чуть не плакал, просил не сообщать туда. Он-де сам будет заходить. У него в бумажнике, видишь, послание епископа и адреса, к кому он ехать должен. А четки — подарок Макарию. Его-то он и разыскивает.
— Адреса, говоришь? И боится? — Сажин машинально тронул усики, что-то соображая. — Когда он обещал зайти?
— Завтра.
— Четки отдали?
— Нет еще. У меня они.
— Ну и хорошо. — Сажин повернулся к дежурному. — Завтра или я или вот он придет сюда и вручит все попу. Если же поп придет раньше нас, постарайтесь задержать его.
— Ясно, товарищ начальник! — с уважением отозвался дежурный.
Прежде чем отправиться в свой кабинет, Сажин и Семкин заглянули к Зайцеву и доложили о происшествии. Тот минут десять метал громы и молнии на их головы, но все же признал, что они не виноваты, и заключил:
— Лучше было вообще ничего не брать. Ну, а с Просенковым я еще поговорю, — многообещающе посулил Зайцев.
Семкин и Сажин переглянулись. Сказано достаточно ясно. Однако, к их счастью, заклеенных конвертов в бумажнике не было. В потертом конверте лежало несколько малозначащих частных писем, адресованных Василию Орехову, в которых неизвестный К. Л. сожалел, что Василий свои задатки художника променял на сомнительную благодать божью. Видимо, письма монаху были дороги, так как хранил он их около восьми лет. Одно письмо, скорее записка, за подписью епископа Германа, была адресована епископу Макарию. Несмотря на краткость, оно заинтересовало Сажина, и он полностью переписал текст, коротко прокомментировав:
— Похоже, вот здесь собака и зарыта.
Семкин тоже подержал листок и подвигал бровями.
— Кажется, дохлое дело начало оживать?
— Однако ты — жираф, — с иронией заметил Сажин. — Долго до тебя доходило…
— Нет. Просто я скептический оптимист.
— Ишь как! Давай-ка взглянем
- еще на четки.
Через минуту Семкин ловко открутил крышечку желудя.
— И здесь с начинкой!
Не ломая голову над загадочной запиской, Сажин просто переписал ее, чтоб передать Савельеву.
Кое-что проясняется
— Зайдите! — позвонил Зайцев Петру Ивановичу. — Обсудим кое-что…
В кабинете Константина Артемьевича Сажин увидел Савельева и Просенкова. Они негромко переговаривались, а Зайцев изучал какой-то документ.
Предложив Сажину сесть, Константин Артемьевич закончил чтение, а потом передал бумагу Сажину.
— Посмотрите, что оказалось в шифровке.
Сажин углубился в чтение. Под номером один записан был рукою Савельева такой текст:«В святые таинства и бога единого веруем. Да рассыпется темный и ангел воссияет.
— А это что за «ами», подпись, что ли? — спросил Сажин, и Савельев ответил:
О прибытии вашем сообщил дьякон Метленко. Дорога открыта, ждем священника, к встрече готовы. Аминь, ами».
— Нет. Это просто для заполнения сетки.
Под номером вторым шел текст, обнаруженный в четках иеромонаха:«Еще же сказано в Священном писании: «Сначала было слово». Посему бысть оно оружие пастырское. Слово исповеди и слово проповеди — нектар и бальзам, угодный господу богу нашему. Как пчелы, собирайте мед истины. Ищите да обрящете. И отделив плевелы, воздайте кесарево — кесарю, богово — богу. Даждь и аз воздам. А в пресветлый день пусть зачтутся все прегрешения и добрые дела наши во славу господню! Аминь!»
Зайцев внимательно наблюдал за Сажиным и, когда тот, раза два перечитав текст, отложил лист, спросил его:
— Ну, что вы скажете?
— В первой записке все ясно. Можно с уверенностью сказать, что она адресована епископу, хотя автор неизвестен. По второй записке судить трудно, от кого она, ведь иеромонах прибыл издалека. Скорее всего, она адресована ссыльному Макарию. Знаком ли Герман с ее содержанием? Здесь можно лишь гадать. Кто автор? Им может быть тот, кто послал иеромонаха Афиногена. Но не надо забывать, что Афиноген ехал из Ленинграда, был в Нижнем Новгороде, Самаре, других местах. Допустимо, что и наш епископ приложил к этому руку. А пока что напрашивается один вывод — создается тропа для нелегальной отправки людей за границу.
— Это верно, — отозвался Зайцев. — Что еще?
— Кодировка довольно прозрачная и весьма похожа на инструктаж, иначе о чем же говорят слова «собирайте мед истины»? Или эти: «и отделив плевелы, воздайте кесарево — кесарю»?
— Что же. Будем считать, что кое-что проясняется. Во-первых, достаточно достоверно предположение о создании канала связи, во-вторых, нельзя исключить возможность сбора попами сведений для пока еще неясной цели, — резюмировал Зайцев.
Когда разговор закончился, Сажин поинтересовался у Савельева, как же ему удалось разобраться с шифром.
— А вы мне здорово помогли.
— Я? — удивился Петр Иванович.
— Ну вы же сказали о семи таинствах и триедином боге. А дальше простая арифметика, — улыбнулся Савельев.
— Ишь ты! Выходит отцы святые и святое писание для земных целей приспосабливают?
— Это детский лепет. У ордена иезуитов шифровальное дело — это да.
— Может быть, не спорю. Но кое-что святые отцы православной церкви у иезуитов уже переняли, — заметил Сажин.
— В этом вы, Петр Иванович, правы, — подтвердил Константин Артемьевич. — Поэтому иезуитизм в деятельности Германа и его сподвижников надо обязательно учитывать. А идет этот иезуитизм от покойного патриарха Тихона Белавина. В 1918 году он предал Советскую власть анафеме, а через два года, когда стало ясно, что песенка белогвардейцев и интервентов спета, призвал пастырей повиноваться. Но как?
Константин Артемьевич взял лист и прочитал:
— «Повинуйтесь всякому человеческому начальству в делах мирских, не давайте никаких поводов, - оправдывающих подозрительность Советской власти, подчиняйтесь и ее велениям, поскольку они не противоречат вере и благочестию». Понятно, Петр Иванович, иносказание патриарха?
— Что же тут непонятного, — отозвался Сажин. — Не попадайтесь, мол!
— Точно. Но нельзя всех ровнять под одну линейку. Не забывайте о течении обновленчества. Это, конечно, приспособление к современным условиям. Но в нем объединяются верующие, лояльные к Советской власти. И среди местного духовенства таких тоже немало… Возьмите хотя бы отца Порфирия или священника Никанора.
Ненависть из-за любви
Много ли надо женщине, истомившейся без мужской ласки? Вот и Настасья скоро успокоилась и была довольна, что и на ее долю судьба послала кусочек счастья. Пусть оно было тайным, таким, что ни перед соседками не похвастаешь, ни родным не скажешь. Герман на этот счет строго предупредил:
— Смотри. Держи язык за зубами. Не то быть беде.
Приходила она к епископу два раза в неделю. Герман любил, чтобы полы были чистые, и у себя в келье, снимая обувь, ходил или в шерстяных носках или в аккуратных шлепанцах на войлочной подошве. Вот Настасья и выскабливала доски до восковой желтизны. Убирать было нетрудно. Имущества у его преосвященства было немного, да и держал он его в порядке. Одежда аккуратно висела на стенке в одном уголке под куском темной материи. Кровать всегда аккуратно заправлена шерстяным одеялом. Под кроватью, она уже знала, — деревянный сундучок. Пара прочных табуреток у небольшого стола с несколькими книгами и два деревянных низких кресла. Вот и вся обстановка, если не считать киота в красном углу. Здесь всегда горела лампада. От колеблющегося язычка пламени по иконам бегали блики, и казалось, матерь божия, Иисус Христос и бог-отец улыбаются ей. От переполняющей душу Настасьи радости захотелось ей сделать приятное и святым и хоть оклады на иконах протереть от пыли.
За киотом оказалась паутина. Стала Настасья выбирать ее и нашарила сверток, а когда вынула, одна бумажка упала на пол. Настасья присела на корточки, подняла листок и не хотела, да прочла:«Тысячу раз целую тебя, мой херувим! Твоя Анна!»
Жарким румянцем плеснула в щеки обида. Настасья вскочила и растерянно опустила руку с письмом.
— Как же так? Ведь сам же говорил, что монах он, а монахи о безбрачии обет дают!
Вдруг ей пришла мысль: «А она-то сама?» Настасья хотела сунуть сверток в топившуюся печь, но внезапно стала развертывать бумажку за бумажкой. А дрожащие губы шептали против воли:
— Целую, херувимчик. Анна… Обнимаю, твоя страдающая Мария… Припадаю к ногам твоим. Лукерья…
Листок за листком открывал ей новое имя. Обида сменилась отчаянием, отчаяние уступило место гневу.
— Вот, значит, ты каков, отец святой! — зашептала она. — Так ты не только богоотступник, но и клятвопреступник.
Во дворе послышался чей-то голос. Настасья решительно сунула письма за киот, поправила подоткнутую юбку и принялась за мытье полов. Руки ее проворно делали свое дело, а в голове роились мысли о мести вероломному попу-соблазнителю. Картины вставали в разгоряченном мозгу одна страшней другой. «А сын», — ужаснула ее тревожная мысль. Ей живо представилось, как ее сынишка тянет к ней беспомощные ручонки, а ее ведут на казнь за то, что она убила распутного попа…
Не дожидаясь возвращенья Германа, уже страшась и себя и его, Настасья кое-как написала на четвертушке листа, лежавшего на столе, что болен сын и она торопится домой…
Если бы Герман мог предположить такое, он наверняка бы трижды закаялся хранить письма своих любовниц, а, может быть, семь раз, когда приметив стройную, соблазнительную прихожанку, задумал овладеть ею. Забыл многоопытный искуситель и знаток человеческих душ, что женщины не терпят соперниц и не прощают вероломства…
— Что ж, рассказ Настасьи интересен для характеристики, так сказать, личности князя церкви, — резюмировал Константин Артемьевич сообщение Сажина. — Однако не доказывает антисоветских помыслов Германа.
— Это, безусловно, так, но я верю, что Настасья может знать больше. Сейчас же в ней говорит разочарование, а может, и слепая ревность, — задумчиво проговорил Сажин, трогая усики. — Убеждать ее надо!
Зайцев внимательно посмотрел на Петра Ивановича, положил руку на его рапорт, подумал:
— Нельзя полагаться, что эта женщина, к тому же глубоко и искренне верующая, поймет истинное нутро Германа. Да и есть ли оно? До сих пор никаких активных действий с его стороны не замечалось. Помощь же беглецам ничем ведь пока не подтверждена.
— А борьба с обновленческой церковью? — не удержался Сажин.
— Это дело внутрицерковное. К тому же, как мы знаем, патриарх всея Руси Тихон заявил о признании Советской власти. Подтвердил лояльность и его преемник Сергий Страгородский. А в борьбе внутрицерковной явно обнаружились тенденции найти компромиссное соглашение.
Сажин понимал, что сообщенное Настасьей не помогло подтвердить предположения. Но его обрадовало другое: Настасья сама разыскала его и рассказала о Германе и его окружении. Оказывается, Сокольский в свое время соблазнил жену Парамонова и долгое время состоял с ней в тайной связи, Парамонова же сумел на это время «устроить» в царскую армию, чтоб не было помех. Парамонов — нынешний благочинный — тоже воздержанием не отличался, подцепил сифилис, лечился, а сейчас, видимо, сожительствует с «боговой невестой» — бывшей монашенкой Евдокией, у которой снимает квартиру. Были сигналы, что в доме Евдокии несколько раз происходили пьяные оргии с участием женщин.
Сажину было неловко слышать о всей этой грязи, но Настасья не позволила перебивать себя, а один раз даже прямо спросила, не из «мужской ли солидарности» он не хочет слушать?
— Таких сажать надо, как взбесившихся кобелей.
— Чтоб потом верующие говорили: «Вот, мол, Советская власть попов сажает за веру?»
— Да какая же здесь вера? Они же развратники.
— По нашим законам можно привлекать к ответственности за многоженство, за изнасилование, за растление несовершеннолетних, за садизм. Совершили они такое?
— Нет, но…
— А раз нет, то нет и достаточных оснований. Если бы они занимались антисоветской деятельностью, собирали шпионские сведения и передавали их за границу, вот тогда их тоже следовало бы привлекать, как врагов. А так… Так они сами себя разоблачают в глазах верующих… Впрочем, о их делах вам рассказывать никому не следует.
Настасья с пылающим лицом, закусив губу, внимательно выслушала Сажина.
— А если они помогают бежать подозрительным людям в Китай? — наконец спросила она, пытливо глянув на Сажина.
— Это уже враждебное дело, — спокойно ответил Сажин, внутренне насторожившись, но Настасья ничего больше не добавила.
— А почему вы все это рассказали мне? — спросил Сажин.
— Так я же давно догадалась, что вы, Петр Иванович, из ГПУ, — посмотрев на Сажина, она торопливо добавила: — Только я об этом никому не говорила… А о тех, кого за границу переправили, я, ей-богу, узнаю.
На лице Сажина, видимо, отразилось беспокойство, и Настасья легонько взяла его за локоть.
— Не беспокойтесь, Петр Иванович. Я осторожно…
По следу тещиного языка
— Все, оказывается, очень просто, Петр Иванович, — начал свой доклад Семкин. — Вся история с четками несложна, как и сами четки. Просто православные деятели, которым Советская власть не по нутру, прокладывают через наши края канал для ухода за рубеж.
— Почему вдруг такое решение? — удивился Сажин.
— Ну как же. Как-то возле церкви…
— Значит, все-таки ходил? — лукаво усмехнулся Сажин.
— Ходил, Петр Иванович. Так вот. Как-то в январе возле церкви после одной обедни услышал я любопытный разговор двух прихожанок. При всей своей набожности они поносили какую-то Елизавету, уехавшую в Кульджу. Я прислушался и вмешался в разговор: мол, не о Свиридовой ли? Одна охотно пояснила, что говорят о Егориной из Малой Станицы. А вторая уточнила, что жила она у зятя-киномеханика на Уральской улице. Этого было мне достаточно. Я отговорился, что вроде бы это не та Елизавета, а сам подался в Малую Станицу.
Почти две недели ходил и выяснил, что Елизавета Егорина была женой бывшего помощника атамана станицы. В разговорах с несколькими соседками она похвасталась, что епископ Герман дал ей документ о принадлежности к староцерковной ориентации. Егорина советовала своим подружкам уезжать в Китай. А ее зять Архип Горбачев поможет, мол, им встретиться с Германом и подскажет, к кому обратиться за содействием.
Сама Егорина с Захаром Гурьевым, бывшим стражником, действительно выехала, в Джаркенте остановилась на постоялом дворе, а потом исчезла. Правда, выяснить, с кем она перешла границу, мне не удалось, но в дальнейшем, думаю, и это узнаем.
Это один случай. Второй. За кордон ушел, правда, несколько раньше саркандский дьякон Метленко, который в настоящее время находится в Кульдже. Так что факт организации нелегального канала для переброски антисоветски настроенных церковников в Китай можно считать доказанным.
— Значит, канал переброски? А не слишком ли поспешный вывод? — задумчиво глядя на Семкина, медленно проговорил Сажин.
— Какие же еще факты нужны? Два перехода за кордон, разве это не доказательство? И потом эта шифровка в четках…
— Это доказательство. Но эти факты почти на самой поверхности. А вот что глубже? По-моему, епископ — фигура более значительная, а не просто руководитель эвакуационной команды.
Семкин обескураженно поморгал, но не сдался:
— А факты? Ведь нет других фактов.
— Да, Саша. Фактов пока нет, а вот сигналы… — Сажин задумался. — Чем объяснить, скажем, случай срыва работ на объектах Чустроя? Откуда идут провокационные слухи о гонениях на православную церковь? И не слишком ли прозрачны проповеди Германа, Сокольского о грешности прихожан, о могущей последовать каре божьей? — Сажин умолк, прошелся по кабинету и снова обратился к Семкину.
— Хорошо, Саша. Продолжай разрабатывать эту версию как одну из возможных, но не забывай вот о чем. Не таков Герман и его окружение, чтобы снизойти до роли проводников для перебежчиков. Не те это фигуры по положению. Они рвутся к крупной игре. Иначе чем же объяснить, что епископ поставил в ряде приходов — в Чилике, Талгаре, Лебединке — новых священников, откровенно тихоновской, староцерковной ориентации. А сейчас Герман, Сокольский и Парамонов усиленно подбирают таких же старотолковых людей для Сарканда и Джаркента. А это что-то значит! — твердо закончил Сажин. Потом улыбнулся: — Все же ты отличный следопыт!
— Почему следопыт? — удивился Семкин.
— Ну как же! Даже куперовский Кожаный Чулок не ходил по следу, который может оставить язык чьей-то тещи. Кстати, что же ее зять?
— Мутный парень. Был слушок, что получил от тещи письмо и вроде бы собирался в Китай, но пока сидит здесь…
Свои опасения и сомнения Сажин высказал и Зайцеву. Константин Артемьевич, ознакомившись с новыми документами, согласился с Сажиным.
— Вы, конечно, правы, Петр Иванович, что для простых проповедников по каналу нелегальной переброски епископ, благочинный и протоиерей — личности не совсем подходящие. Положить начало еще туда-сюда. Но не больше. Ваши предположения о возможной организации контрреволюционного религиозного центра не лишены оснований. Продолжайте работу в этом направлении. Но и версию о нелегальном канале не оставляйте.
Кто более иезуит?
— А обедня, по-моему, удалась, — просипел благочинный, с интересом оглядывая опустошенные бутылки и залитый стол с огрызками хлеба и огурцов. Герман чуть заметно поморщился, но ничего не сказал. Сокольский же раздраженно буркнул:
— Опять вы, отец Стефан, иронизируете. Неужели вам непонятно, что без такого маскарада мы не можем теперь встретиться, чтоб спокойно поговорить?
— Оное прегрешение всевышний простит своим верным слугам, — назидательно заметил Феоген, который сидел в красном углу под образами.
— Тем более, что цель оправдывает средства, — добавил Сокольский нетерпеливо. Герман пытливо посмотрел на него и, пропустив между пальцев серебряную цепочку, зачем-то коснулся своей епископской панагии — маленькой нагрудной иконки.
— Отец Александр, если бы я не посвящал вас в сан протоиерея и не знакомился с жизнеописанием вашим, я твердо бы решил, что вы принадлежите к братству Иезусову.
— Не видел бы в том беды, если бы в православной церкви существовал таковой орден воинов христовых. А что я воспитан в стенах Волынской духовной семинарии, так то почитаю за честь, ниспосланную всевышним.
— За это вас не осуждают, — пожевал губами Феоген, — но православие отказалось от всех присущих католицизму орденов, а не токмо от основанного приснопамятным Игнатием Лойолой ордена Иезусова. Вера православная не нуждается в карающих силах… Корни ее в душе народной…
— То-то мы вынуждены думать, как эту веру укрепить с помощью…
— Остановись, сын мой! — сурово прервал Феоген.
— А-а-ха-ха-ха! — сипло засмеялся благочинный. — Прав отец Александр! Все мы…
— И во времена рождения христианства на первых адептов были гонения, — негромко, но твердо пресек Герман готовый разгореться спор.
— И то… Лучше о деле, а споры эти оставим большевистским агитаторам, — закивал Феоген, расправляя седую бороду и удобнее усаживаясь на стуле.
— Действовать надо. И действовать энергичнее! — взмахнул Сокольский рукавом рясы. — Связи надо устанавливать. Надежного человека в Китай послать…
— Отец Александр! В решительности вы и верно восприняли дух иезуитов. Но вот горячность иезуитам несвойственна. Они кротки аки голуби и хитры аки змеи… Но хватит об этом. Теперь о связях… Сила церкви во влиянии на паству, послушную воле столпов церкви, в единстве действий. В настоящее время без такого единства трудно добиться чего-либо. Но я не терял времени и кое в чем с помощью архимандрита Феогена преуспел. Но этого мало. Для пользы дела необходимо, чтобы и вы, отец Александр, и вы, отец Стефан, активнее включались в эту работу. Теперь, когда мы уверились один в другом, в нашей приверженности делам веры, мы должны действовать сообща, в одном направлении…
Настасья, приглашенная на эту встречу у благочинного Парамонова, чтобы помочь Евдокии и Прасковье, неторопливо перемывала тарелки, вилки, стаканы, ложки и с неприязнью думала о собравшихся: «Великий пост не кончился, а они водку жрут! Верующим, значит, нельзя, а им можно. Тоже мне… святые!»
Резкий голос Сокольского, сиплый смешок Парамонова, скрипучая нотация Феогена насторожили Настасью, а когда послышалась бархатисто-мягкая речь Германа, женское любопытство взяло свое, и она осторожно поставила табуретку и, усевшись возле стола, прикрыла глаза — будто спит.
— Капля по капле камень долбит, — продолжал епископ. — Но чем больше этих капель, тем и дело быстрее движется. Мы не можем открыто призывать верующих к неповиновению большевистской власти. Надо действовать исподволь. В проповедях и на исповедях внушать греховность и бренность дел земных. Большевики молчат о недороде. Мы же должны разъяснять это как кару небесную за грехи наши, за падение веры, за свершение неугодного и противоречащего извечному небом предустановленному порядку.
— Почему банкиры, фабриканты и заводчики потерпели поражение? — явно риторически вопросил Герман и, не ожидая реплик слушателей, ответил: — Советы, большевики национализировали капиталы и заводы и тем лишили их силы. А так как было оных мало, то и не смогли они противостоять черни. Теперь же большевики в своей политике коллективизации замахнулись на собственность самой этой черни. А числом она как песок морской. И что будет, когда мужик поймет, чего хотят большевики? Да он за свой надел, свою лошадь, корову, избу всякому горло перегрызет…
Настасья прикусила губу. «Вот, значит, на что замахиваются святые отцы!» О, Настасья, хоть и малолетней была, хорошо помнит, как станичное казачество притесняло мужиков, как за недоимки разоряли бедных, особенно иногородних. Ведь только Советская власть наделила мужика землей, уравняла его в правах с казаками.
— А вы, ваше преосвященство, действуете, не в осуждение будь сказано, еще хитрее, чем отец Александр, — просипел за дверью благочинный отец Стефан. — Так что, кто из вас двоих более иезуит, только всевышний разберется.
— Помолчи, благочинный, — проскрипел Феоген, и опять послышался бархатисто-мягкий голос Германа.
— О связях с Китаем. Не буду хвастать, кое-что делается. Хотя и трудно стало поддерживать отношения с кульджинскими единоверцами, но после направления туда угодной господу и нам рабы божьей Елизаветы, мы выполнили просьбу братьев и послали пастырем священника отца Павла…
Настасья покосилась на Евдокию, которая тихонько сопела и спала сном праведным, а потом снова прислушалась.
— Жду я из-за кордона сообщения о благополучном прибытии твердого верой отца Павла к нашим кульджинским братьям. Еще же из Сарканда от верного человека, искреннего верующего, поступило известие, что границу перешел отряд белого воинства. Они все отлично вооружены. Наши друзья, как видите, не забывают о многострадальной России. И нам не следует сидеть сложа руки.
— Знаем мы этих друзей. О своей мошне пекутся. Все Риддер… — засипел Парамонов, но скрипучий голос Феогена опять остановил его.
Герман заговорил снова, но его речь доносилась почему-то все невнятнее, и Настасья не заметила, как уснула. Очнулась она от легкого толчка в плечо. Настасья вскинулась и вперила непонимающий взгляд в стоящего перед ней архимандрита Феогена. Он что-то спрашивал. Увидев недомытую грязную посуду на столе, Настасья враз вспомнила, где она, и испуганно стала оправдываться. Из-за плеча архимандрита острым взглядом буравил ее Сокольский. А Феоген ласково стал успокаивать ее.
— Уснула, голубушка? Успокойся. Успеешь домыть посуду.
А из головы у Настасьи все не выходил сон, и она внезапно расплакалась. Феоген все тем же ласковым голосом:
— Ну полно, дочь моя, чего ты испугалась? Иль услышала что?
— Ах, батюшка! Снилось мне, что шла я с сыночком по мягкой траве. И вдруг он упал, а на меня зверь какой-то страхолюдинный бросился, — и Настасья заплакала. Сокольский, недоверчиво глядя своими буравчиками, с едва сдерживаемой злостью стал допытываться:
— Да не о сновиденьях твоих спрашиваю. А что говорили мы, слышала?
— Чаю спрашивали? Извините меня, грешную. Сама не знаю, как задремала. Я сейчас, — заторопилась Настасья.
Феоген молча посмотрел на Сокольского и успокоительно махнул рукой. Лицо Сокольского вроде стало мягче.
— Да, спрашивали чаю, а никто не идет. Ну и ты нас прости, — уже почти по-свойски закончил он. — Ведь к проповеди на пасху готовимся.
Настасья быстро ополоснула стаканы и стала разливать напиток из чайника, добродушно пофыркивающего на плите. Евдокия сконфуженно моргала белесыми ресницами, и лицо ее, не отошедшее от сна, было просто глупым.
— Откровенно дрыхли, бестии, — почти без противного скрипа в голосе пояснил Феоген. За дверью раздался облегченный смех Германа.
— Молодые еще. Вот и дрыхнут без злоумышления, — просипел благочинный.
«Я-то без злоумышления, а вы, кажется, с умышлением», — подумала Настасья, облегченно вздыхая.
— Кажется, пронесло, — шепнула она Евдокии, вручая ей поднос, уставленный стаканами. — Неси, пока опять не осерчали…
На могиле поручика
— Не подвезете ли, батюшка? — весело спросил Просенков священника, догнавшего его за околицей Коктала. Тот остро глянул на Илью, поспешно перекрестился и еще раз пристально оглядел его.
— Садитесь. Тоже в Коктале гостили?
— Дела, батюшка.
— Да, да, конечно, — поспешил согласиться священник и без всякого перехода с проникновенным чувством проговорил:
— Через неделю пасха! Вишь, в природе какое благолепие: травка зеленеет, деревья убрались листвой и стоят, как будто невесты под фатами.
— Так фата же белая, а тут…
— Не дерзи, молодой человек, на божественное изволение.
— Где уж мне! — засмеялся Просенков, обнажая белые ровные зубы. — Далеко ли, батюшка, путь держите?
— Да возвращаюсь в Верный, по нынешнему в Алма-Ату.
— Мне тоже в ту сторону.
— Вот и хорошо. Вдвоем и веселее. Подсаживайся.
Не отощавшая за зиму лошадка бодро бежала сноровистой рысцой, изредка всхрапывая и помахивая хвостом. Неторопливым ручейком журчал разговор. Около полудня, когда подъехали к речке, священник остановил коня.
— Пусть кобылка отдохнет. Да и нам размяться и перекусить, чем бог послал, не мешает.
— Только, батюшка, не обижайтесь, у меня вся снедь — хлеба горбушка да пара луковиц.
— Не обессудь и ты, молодой человек. У меня тоже закусь не ахти: огурцы да помидоры соленые.
Так они и уселись вдвоем под большим кустом отдохнуть да перекусить.
— Извини, сын мой. Поскольку я верую, то сначала помолюсь, — батюшка из-за пазухи достал четки, что-то пошептал, несколько раз с достоинством перекрестился, после чего положил четки на рядно.
Просенков при виде четок вздрогнул: это была копия тех, что лежали у Сажина в сейфе.
Трапеза прошла в молчании. Священник вроде хотел что-то спросить, но, поглядев на задумчивого Илью, не решился. Поблагодарив батюшку, Просенков молча сел в бричку, и они поехали.
Занятый своими мыслями, Просенков поначалу не обратил внимания, что бричка давно уже свернула с проселка, и теперь ехали они без дороги меж низкорослых карагачей, кустов шиповника и дикого урюка.
Наконец батюшка остановил кобылку и, привязав повод к стволу дерева, проговорил:
— Пойдем со мной, я покажу кое-что.
Просенков молча пошел за священником, уклоняясь от колючих ветвей. Минут через пять они вышли на крохотную лужайку, посреди которой стоял покосившийся крест из двух слегка обтесанных жердей. Просенков пригнулся к еле заметной надписи.
— «Здесь покоится раб божий Илья», — прочитал он и с недоумением повернулся к старику: — Ну и что?
— В этой могиле погребены бренные останки человека, которого в миру звали Ильей Степановичем Свешниковым, — опустив голову, негромко сказал священник, потом повернулся и, взмахнув рукавом рясы, указал на плоский камень: — А тут под камнем закопано и подтверждение моих слов.
Просенков молча посмотрел на священника, подошел к камню, крякнул и отвалил его в сторону. Под слоем глины лежал узелок, в котором оказались два чуть тронутых рыжиной пистолета, записная книжка, два георгиевских креста и пачка разных бумажек. В середине лежало несколько фотографий. С одной смотрел на Просенкова… почти он сам, только в офицерской форме с погонами по три звездочки, с двумя крестами под карманом и щегольскими усиками. Посмотрев на фотографию, - Просенков аккуратно сложил все в узелок.
— Извини, батюшка, все это я должен забрать…
— Как знаешь, сын мой…
Просенков осторожно сгреб глину в ямку и снова привалил камень на прежнее место, а священник, склонив голову над молитвой, беззвучно шевелил губами. Наконец, закончив молитву, он со вздохом проговорил:
— Мир праху убиенного, хоть и неправедны пути его были в миру.
Когда кобылка, помотав головой, потащила бричку от места одинокого упокоения неизвестного Просенкову поручика, он задумался: откуда старый священник знал этого офицера и почему он показал ему это место. А еще соображал, как расспросить священника обо всем этом, да и насчет четок.
Но священник заговорил сам, когда телега выбралась на чистое место.
— Тебя, конечно, удивляет, сын мой, какое отношение ко всей этой истории имею я, — священник оглядел из-под нахмуренных бровей дорогу и снова заговорил. — Поручика Свешникова до прошлой осени я не знал. А нашел его уже раненым и теряющим сознание недалеко отсюда. Состояние свое он хорошо понимал, потому что, признав во мне лицо духовное, попросил исповедать его и отпустить ему грехи, а потом предать тело земле. «Я недолго протяну, потерял много крови, да и заражение началось», — сказал он. Я выслушал его страшную исповедь. Не хочу повторять все его злодеяния, но они были ужасны, и господь покарал его тяжкими смертными муками. Он действительно прожил всего часа три, и я, прочитав по нему отходную молитву, кое-как зарыл его в сухой земле. Документы и оружие хотел забрать, но потом убоялся и тоже предал погребению…
Почему я теперь говорю тебе все это, и сам не могу сказать. Видно, и священнику нужно исповедоваться, чтоб не жгли его душу… тяжкие чужие деяния.
Просенков слушал священника внимательно, не перебивая, а когда тот умолк, словно подводя итог, заметил:
— И палачам, выходит, от смерти не уйти.
— Воистину, сын мой, все мы смертны. Но к одним смерть приходит тихо, к другим, как к этому Свешникову, — в тяжких муках. И это есть кара божья.
— Выходит, и красноармейские пули могут быть карающим средством в руках бога? — не удержался Просенков.
— Выходит, могут, — согласился священник очень просто. — Заповеди господни никому не дано преступать…
— А ведь преступают, — покачал головой Просенков.
— Силен дьявол.
— Дьявол, значит? А как же в гражданскую войну полки Иисуса и Пресвятой богородицы, в которых были попы и прочие священнослужители, дрались с оружием в руках против красноармейцев? А то и в карательных походах участвовали?
Просенков спохватился. Получалось, что он словно бы упрекает священника за личное участие в таких походах. Батюшка долго молчал.
— Конечно, правду не скроешь. Были и такие случаи. Но уж прошло десять лет…
— Десять лет, говорите, прошло? А зачем тогда этот белый офицерик Свешников в прошлом году пожаловал? Ведь не за то, что он шел к молебну, подстрелили его пограничники. А четки, которые вы везете епископу? От кого они? Что вы на это скажете? Молчите, потому что вам нечего сказать. И смерть не от дьявола, а от рабов да слуг божьих идет к мирным пахарям.
При последних словах старый священник даже отшатнулся и неожиданно тонко-писклявым голосом вскрикнул:
— Да как вы смеете говорить такое?
— Разве вам что-либо докажешь? Вы на их стороне. А то, что сегодня… Это от нежелания отягощать свою душу чужими преступлениями. Да что там говорить! — Просенков устало махнул рукой.
— Вы глубоко заблуждаетесь, молодой человек, — взял себя священник в руки. — Я знаю, что вы сотрудник губернской ЧК или ГПУ, как теперь говорят. А крови… крови я действительно видел много в гражданскую войну… Сколько же можно убивать?!
— А откуда вы меня знаете? — насторожился Просенков.
— Случайность и сходство ваше с покойным Свешниковым. Вообразите, что я, верующий, почувствовал, когда на рождество средь бела дня столкнулся на улице с похороненным мной человеком! Я сначала хотел убежать, потом, не знаю зачем, пошел следом за вами до ЧК. А там у входа вас по фамилии окликнули. Я не знал, чему верить: своим глазам или памяти. Но припомнил одну деталь: у покойного на правой руке был небольшой шрам. У вас его нет. Выходит, вы действительно другой человек…
— Значит вы, отец Порфирий, против убийства?
— Против. Но бог один знает, что делает.
— А епископ?
— Что епископ? Эти четки меня просили передать его преосвященству в Сарканде. Отправитель — пожилой верующий человек Чернышев. Четки эти он брал с верой в их святость, чтобы приложить к больному.
— И вы, православный священник, верите, что четки — нужны для исцеления больного?
— Дались тебе эти четки, молодой человек, — проворчал отец Порфирий. — Конечно, епископ не верит в талисманы, но нельзя же отнимать веру в исцеление у больного. А на какие другие цели можно использовать кипарисные четки?
Священник покрутил четки, а потом протянул их Просенкову. Тот внимательно осмотрел их. Да, четки были копией тех, что лежали у Сажина в сейфе. А вдруг…
— Смотри, батюшка! — с этими словами Просенков крутнул четку, похожую на желудь. Послышался тихий скрип — и на глазах удивленного священника Просенков вынул из крохотного тайничка туго скатанную бумагу.
— Ну, что я говорил?!
— Так, может, там молитва? — пытался возразить отец Порфирий, хотя в голосе его не чувствовалось прежней уверенности.
— Прочтите, если это молитва, — развернул Просенков тугой катышок.
— Да тут бессмыслица какая-то, — с недоумением и досадой проговорил священник.
Попросив остановить лошадь, Просенков достал карандаш, листок бумаги и внимательно, четко, буква за буквой переписал текст, потом аккуратно свернул листок, вложил в тайничок и, приведя четки в прежний вид, отдал их священнику. Некоторое время Просенков раздумывал, потом начал читать буквы и переписывать их в какой-то последовательности.
Отец Порфирий распряг лошадь и, привязав ее вожжой за телегу, опять разложил холстинку и оставшиеся от полдника припасы.
— Может, подкрепимся? — неуверенно спросил он.
— Сейчас, батюшка.
Просенков вспомнил, что говорил Савельев о способе зашифровки письма, и решил попробовать расшифровать текст, поэтому аккуратно расписал по клеткам все послание и принялся читать. Наконец он, подавив охватившее его возбуждение, спросил:
— Скажите, батюшка, а где сейчас отец Павел — священник вашего храма?
— Не знаю. Говорили, что вроде в Сибирь уехал. А что?
— Отец Порфирий! Вы говорите, что желаете спокойной жизни людям, что вы порицаете кровопролитие, что не поддерживаете тех, кто выступает против власти сущей, как от бога данной.
— Так, сын мой! — твердо ответил священник, глядя прямо в глаза Просенкову.
— А если я сейчас докажу вам, что епископ злоумышляет против народа, вы согласитесь помочь мне?
— Сын мой, дедичи и отчичи мои были хлеборобами, и я знаю, сколь тяжек труд крестьянский. И хоть не все понятно мне в действиях Советской власти, но вижу, что она стремится облегчить участь малых мира сего. А потому, коли прав ты, я помогу, чем могу, если это не пойдет против веры моей в господа бога.
— Хорошо. Теперь смотрите сюда и читайте, как я буду показывать.
Дальнозорко отстранясь, батюшка следил за карандашом и выговаривал по слову:
— Отец… Павел… прибыл… в Кульджу… благополучно… письмо… с сообщением… о положении церкви… о настроениях… в городе… и селе… получено… После… пасхи… к вам… явится наш… человек… скажет… что нас… интересует… Пришлите… подробное… сообщение… Используйте… продовольственные… трудности… для разжигания… недовольства… верующих… Советской властью.
— Ну, что, отец Порфирий, скажете теперь?
Священник взял у Просенкова лист бумаги, чуть не весь исписанный, и стал сличать сделанные чекистом записи. Это окончательно убедило его, что Просенков не обманывает. Несколько минут сидел он неподвижно, и лишь по дрожанию полуседой окладистой бороды можно было догадаться, как ходят желваки под кожей.
— Немало супостатов пришлось одолеть народу нашему, и всегда священнослужители шли с ними на бой за землю предков. Но поднять меч супротив своего народа — это не пастырское дело. Тот вероотступник. Говори, сын мой, все, что могу, — сделаю.
— Хорошо, Порфирий Васильевич. О поручике Свешникове, его смерти, где он похоронен и что показали мне эту могилу, — никому ни полслова. О сегодняшней встрече тоже особенно не распространяйтесь…
Просенков задумался, пытливо посмотрел на собеседника:
— А если я попрошу ввести меня в храм ваш…
— Не беспокойся, все, что не против веры, все сделаю, — заверил старый священник.
Пасхальная всенощная
— На пасхальную ночь к церкви направлены наряды милиции для поддержания порядка и предупреждения эксцессов, — сказал Зайцев.
— Да, я это знаю, — ответил Сажин, недоумевая, зачем Зайцев вызвал его и к чему это предупреждение.
— Так вот вам поручается проконтролировать. А то ведь знаете. В милиции много молодежи, комсомольцев. Могут посчитать это дело стыдным и уйти.
— Ясно, — нехотя согласился Сажин на непредусмотренное дежурство.
Вечером Сажин был у храма, переговорил с участковым и решил ради интереса посмотреть на пасхальный обряд.
Оглядывая ярко освещенную церковь, Сажин неожиданно увидел мужчину с пышным белым чубом и с удивлением признал в нем джаркентского милиционера Третьяка. С розовой свечой в руке он истово крестился и экзальтированно повторял за окружающими: «Воистину воскресе!»
Чтоб не попасться на глаза Третьяку, Сажин чуть отступил назад за спину могучего старика, и тут ему открылась еще новость — шагах в трех от Третьяка стоял Просенков!
«И он здесь! — удивился Сажин. — А ведь Константин Артемьевич сказал, что Просенков включен в ответственную операцию». И вдруг Сажин спохватился и стал осторожно оглядываться. Ему вспомнилось предупреждение Зайцева: «В каких бы обстоятельствах вы с ним ни встретились — вы его не знаете. От этого будет зависеть успех операции, а может… и жизнь Ильи!» Но милиционер! Знает ли он Просенкова? Предупредить… Как предупредить?»
Выскользнув из церкви, Сажин поспешно отошел, достал блокнот и быстро написал: «Справа в трех шагах белочубый — милиционер из Джаркента». Самому к Просенкову подходить нельзя. Семкина не пошлешь. И тут мимо Сажина шмыгнула низкая фигурка, за ней другая. В третьем пацане Петр Иванович узнал прошлогоднего знакомца и тихо окликнул его.
— Здорово, Федя!
Тот оглянулся и остановился. Предупреждая возможный вопрос, Сажин негромко сказал:
— Молчи! — видя, что мальчишка понял, Сажин продолжал: — Помнишь того дядьку, который держал тебя за пятку, когда ты под лабаз залез.
— Угу-у!
— Отдать вот это, чтоб никто не заметил, сумеешь?
— Па-а-а-думаешь, дело! — пренебрежительно отозвался мальчишка. — Давай, передам уж, — и Федя вьюном ввинтился в толпу.
Сажин, осторожно раздвигая молящихся, вошел в храм и стал через головы наблюдать за Просенковым, его окружением и действиями священников.
Белый чуб Третьяка еле виднелся. Стоял он на прежнем месте в нескольких шагах от Просенкова…
По совету отца Порфирия Илья давно пришел в церковь, выстоял все предварительные обрядные действия, совершил круг крестного хода вокруг храма и вот теперь стоял среди верующих почти возле центра церкви, где расхаживали священники. Епископ, осеняя верующих крестом, внимательно вгляделся в лицо Ильи. «Опознал», — подумал Просенков и двинул бровями: мол, да, о нем говорил его преосвященству отец Порфирий.
Епископ отошел, и тут Просенков почувствовал, что в руку ему быстро всунули клочок бумаги. Скосив глаза, он увидел рожицу мальчишки-беспризорника, которого в прошлом году вытаскивал из-под лабаза. Мальчишка беззаботно подмигнул и чуть мотнул головой. Илья встревожился. Записка означала что-то опасное, но что? Лишь крайний случай мог заставить своих пойти на нарушение запрета устанавливать с ним связь, когда он вошел в операцию.
Просенков не торопясь огляделся, остро фиксируя лица окружающих. Привлек внимание белочубый молодой мужчина. Он старательно крестился, восторженно повторял вместе с другими «Воистину воскресе!», но скрытая нервозность прорывалась в тревожных взглядах, которые он вдруг бросал по сторонам. Просенков отошел в уголок, за спинами верующих прочитал записку и мысленно поблагодарил Петра. Теперь он вспомнил белочубого. Встречаться с ним Илье приходилось всего раз, да и то вечером. Милиционер Третьяк тогда не обратил на него внимания. «Но почему он здесь?». Это сбивало с толку, записка объяснения не давала, значит и для Сажина нахождение в церкви Третьяка — неожиданность.
Из-под руки в лицо Просенкову заглянул тот мальчишка, Илья улыбнулся, наклонился к нему и прошептал:
— Порядок! — и чуть громче добавил: — Ну ладно, сейчас беги к дяде, а потом найдешь меня…
Объяснение причин появления Третьяка Сажин получил от Просенкова через Федю спустя неделю. Мальчишка, явно гордый оказанным ему доверием, подкараулил Сажина и очень старательно передал, что Третьяк исповедался и причащался у Германа, что он, видимо, держит связь с закордоньем и помогает переправлять людей за рубеж. У Германа и Сокольского пользуется несомненным доверием.
— Дядя, если что надо сообщить или передать дяде Илье, то я это могу.
— Ох, малец, не совался бы ты в это дело!
— Вы думаете, если я беспризорный, так и не понимаю ничего? Да если хотите знать — я этих гадов во как ненавижу. Мне сестренка рассказывала, как нашу маму у Алакуля анненковцы порубили вместе с другими. А мы чудом живы остались…
Сердце у Сажина больно сжалось: вот он, отголосок гражданской войны. А Федя сухо продолжал:
— Бродяжничать-то я стал недавно, после смерти тетки Даши, у которой мы с сестренкой жили. Тетка Даша жалела нас, а муж ее пьяница и все норовил меня прибить. Вот я и ушел.
— А в детдом?
— Нет, мне в детдом нельзя. Мне отца надо найти и за мать отомстить.
— Кому? Ведь ты же сам говоришь, год тебе было, когда случилось это.
— Так сестренка мне рассказала… А дядя Илья хороший, — неожиданно заключил мальчишка, и ласковая улыбка преобразила его лицо. Он что-то хотел еще сказать, но неожиданно отступил и бросился за угол. Сажин, недоумевая, повернулся. К нему приближался дьякон Соловейкин из храма.
Не пора ли?
Рассказ Настасьи полностью гармонировал с торжествующим выражением ее глаз, которые, казалось, говорили: «А своего я добилась!» Кроме содержания беседы на предпасхальном застолье в доме бывшей монашенки Евдокии, Настасья сообщила о том, что Герман разослал ряд писем бывшим священнослужителям, проживающим ныне на юге Казахстана и в прилегающих районах Киргизии. Настасья прочитала некоторые из них. Епископ призывал бывших священнослужителей к поискам в районе Иссыка захоронения ни много, ни мало одного из евангелистов из числа христовых учеников-апостолов.
Петр Иванович, слушая такое, долго хохотал и рассмешил Настасью, когда разъяснил ей, что в том районе недавно нашли кости ископаемых ящеров, живших два или три миллиона лет назад.
— Так, выходит, евангелист-то — ящерица? Ой, не могу!
— Вот так вот, Настя. Пользуются попы неграмотностью людей и выдают им кости какого-нибудь динозавра за останки святых мужей-апостолов.
Насторожило Сажина замечание Настасьи, что из Сарканда второй раз приезжал некий Чернобашкин, который разговаривал с епископом не менее двух часов…
— Ну, что вы скажете, Петр Иванович? Ведь это же не божеское дело. Это же… Так только…
— Да, Настя. Такое по советским законам не допускается. Они замышляют черное дело против народа, против Советской власти.
Расставшись с Настей, Сажин поспешил к Зайцеву.
Начальник отдела внимательно выслушал Сажина.
— Да, из этого вытекает, что святые отцы не только переправкой за рубеж занимаются. Похоже, что их планы шире.
— Константин Артемьевич, — горячился Сажин, — факт создания контрреволюционной группы налицо. У нас есть текст двух шифровок, которые подтверждают связь Германа с закордоньем. Доказана причастность епископа к отправке за рубеж Елизаветы Егориной и священника Павла. Проповеди самого Германа и почти всего священнослужительского состава церкви по своему содержанию явно провокационные. Наконец, нам известно о попытках Германа, Сокольского и Соловейкина установить непосредственные связи с бандитской группой. И не их, как говорится, вина, что эта попытка не удалась в связи с уничтожением банды… Пора пресечь незаконную деятельность.
— Все верно. Однако давайте подождем еще недели две.
— Но почему?
— Я жду одного важного рапорта, который все прояснит. А вы продолжайте работу по делу. Кстати, саркандское ответвление еще не раскрыто. Если в городе все более или менее ясно, то там одни предположения. К тому же практическую деятельность не мешает раскрыть детальнее.
— Ясно, товарищ Зайцев, — официально сухо ответил Сажин, пряча недовольство. Зайцев внимательно посмотрел на него, потер висок, еще раз посмотрел, словно хотел разъяснить что-то, но только сказал:
— Если ясно, вы свободны.
…Выяснение деталей дела по Сарканду, Лебединке потребовало немалых усилий, но Петр Иванович и Семкин заполучили много фактов, которые подтверждали вывод о создании Германом антисоветского церковного центра. О ходе напряженной работы и ее результатах Сажин несколько раз докладывал, но к вопросу о привлечении епископа к ответственности не возвращался. Только после очередного доклада безмолвно смотрел на Зайцева. А тот, словно не замечая немого вопроса, давал указания, что и как уточнить. Но наконец он вызвал Сажина и с радостной улыбкой заговорил:
— Ну как, Петр Иванович, что вы думаете о деле церковников?
Сажин встревожился: неужели что-то еще упущено? Но Зайцев, поняв беспокойство Сажина, не стал томить его.
— Все, Петр Иванович! Пора ставить точку. Готовьте документы о привлечении к ответственности Германа, его сообщников и подручных.
— Константин Артемьевич, значит…
— Получен, дорогой мой, получен важный рапорт! Илья благополучно вернулся и написал обстоятельный рапорт, — с торжеством докончил Зайцев. — Теперь голубчикам не отвертеться ни с помощью Николы-чудотворца, ни с заступничеством Ильи-громовержца. Выписывайте ордера на арест, на обыск. Всю группу нужно обезвредить одновременно, чтобы не дать возможности уничтожить улики или скрыться от ответственности, — и Зайцев протянул Сажину папку с надписью «Сообщения и рапорта И. Просенкова»…
А бриллиант-то фальшивый!
От первого допроса зависит очень многое, и Сажин обсудил с Зайцевым все детали предстоящего психологического поединка: и какие вопросы ставить, и их последовательность, и то, какими аргументами разоблачать епископа Германа.
И вот он перед ними.
На холеном лице — высокомерное выражение оскорбленного достоинства и жертвенная готовность пострадать за веру. А в глазах — нет-нет да проскакивают искорки беспокойства.
Вопрос о группировании вокруг возглавляемой им церкви антисоветски настроенных церковных деятелей Герман воспринял с явным облегчением!
— Никакой группировки не было, гражданин чекист. Священнослужители, направленные на жительство в селения, находящиеся на территории моей епархии, действительно приходили. Я оказывал им помощь деньгами в малых размерах, удовлетворял их просьбы, утирая слезы. Сострадая им, как христианин, я относился к ним, как к прочим прихожанам и разъяснял, что поселение на жительство в наши края вызвано приверженностью их к староцерковной ориентации, которая, как вы знаете, некоторое время не хотела признавать Советскую власть.
Но в христолюбивом сострадании я не вижу стимула к группированию вокруг нашей церкви контрреволюционных, сил. И потом, что понимать под контрреволюционером? Боюсь, что ревнитель твердой веры для вас и есть контрреволюционер…
Сажин раскусил маневр епископа, который хотел навязать спор, и задал следующий вопрос — о создании церковного антисоветского центра.
Видя, что чекист не стремится доказать утверждение о группировке вокруг церкви реакционно настроенных священнослужителей, епископ Герман отрицал и создание руководящего ядра, и развертывание антисоветской работы и пропаганды, и переправку за рубеж ряда верующих и священнослужителей, и установление связей с эмигрантами в Кульдже.
— Гражданин чекист! Во все времена верующие христиане подвергались гонениям со стороны власть имущих, но вера христова не скудеет, а священство, как этот бриллиант, что украшает мою панагию, от мученичества лишь становится чище и предстает перед паствой в ярком сиянье и блеске…
Герман сидел спиной к двери и, упиваясь своими словами, не обратил внимания на вошедшего Просенкова, а тот взял со стола панагию и, осмотрев ее, повернулся к Герману.
— А бриллиант-то фальшивый, ваше преосвященство. И ваши рассуждения о блеске, сиянии и чистоте священства тоже фальшивы, — с этими словами он поднял газету, и Герман увидел разложенные на столе любовные письма, изъятые при обыске, о которых епископ совсем забыл.
Глядя на Просенкова, одетого в чекистскую форму, Герман побледнел, отшатнулся и прикрыл лицо, словно защищаясь, рукавом черной рясы.
— Боже праведный, кто это?
— Кстати, ваше преосвященство! Кульджинский владыко Штокалко передает вам вместо привета поношение за вмешательство в дела чужой епархии. Это он по поводу присылки отца Павла, да и полковник от ваших предложений не в восторге.
Глаза Германа мрачно сверкнули. Рухнули его надежды установить свой контроль над православной общиной в Кульдже, повлиять на полковника Вяткина, добиться от него отказа увести свою белую армию на Дальний Восток, а вместо этого склонить к нападению на советское Семиречье. Этот чекист под видом бывшего офицера ловко вошел к нему в доверие, получил от него, Германа, доступ к самым сокровенным планам…
Его преосвященство менялся на глазах: слиняло высокомерие, растаяло выражение превосходства и оскорбленного достоинства, не осталось ничего, кроме смертельно-белого ужаса на лице и в глазах.
Затравленно оглянувшись вокруг, он чуть слышно прошептал:
— Вы правы, сверкающий адамант из меня не получился.
- Р. Нуралиев
Талқылау
Сондай-ақ оқыңыз:

06 декабрь 2020, Воскресенье
В настоящий сборник включены повести К. Токаева «Особое поручение», «Таинственный след», «Убийство перед закатом» и «Ночной выстрел».
Пікірлер (0)